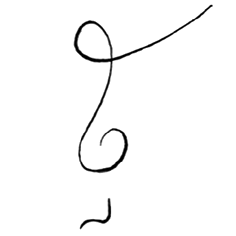....И всё же, он так и не мог поверить! Разве он ничего не значил для тех рук? Для рук, которые прикоснулись к нему, которые прикасались к нему так много лет? Он был для них всего лишь... всего лишь музыкальной шкатулкой?
Однако же, он помнил, как они прикасались к нему с радостью, с вниманием, с добротой!
И он пел им так красиво, как только мог. Он всегда пел им так красиво, как мог, даже когда они давили на клавиши, обращаясь с ним как с игрушкой, даже на своих первых уроках!
«...Нет, здесь никого нет...»
– ответил сам себе большой рояль, и ему показались такими фальшивыми ноты, издаваемые его струнами на том тёмном чердаке.
«...Все ушли...»
Он ощутил пустое пространство вокруг себя.
Должно быть, не было больше старых светильников и красивого кресла-качалки, шумных детских игрушек и колыбели младенца. Должно быть, не было ничего. Никто не слышал его на том пустынном чердаке посреди – или на краю? – пустоты.
Должно быть, никого не было и в самом доме.
Нижние этажи, должно быть, опустели. Дети уже выросли. Наверно, они давно разъехались. Наверно, они уже создали свои семьи и жили в других домах.
Наверно, единственной вещью, которую они оставили после себя, был этот рояль! Слишком тяжёлый для перевозки. Слишком большой, чтобы его пристроить где-нибудь в другом месте.
Старый рояль, на старом чердаке, в доме, который тоже состарился. В доме, затерянном посреди пустоты.
«Жаль», – сказал он, и череда фальшивых нот послышалась на чердаке....